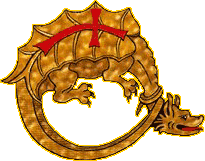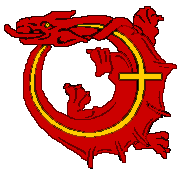ПОМНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ,
или Где
тут запятая?
«Да-с;
подбираемся-с, подбираемся... и
заметьте-с, что довольно дружно
один за
другим. А ведь в существе нечему здесь
много
и удивляться: всему этому так
надлежало и
быть: жили, жили долго, и наступила
пора
давать другим место жить. Это
всегда так
бывает, что смерти вдруг так и
хлынут,
будто мешок прорвется. Ну, что
делать:
жили, жили вместе, пора, видно,
начать
невдалеке один за другим и
умирать».
Н.С. ЛЕСКОВ
Разберемся
во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине..
Сергей
ЕСЕНИН
Прежде чем начать обсуждать последнюю
повесть писателя, поэта, кинорежиссера,
историософа и колумниста газеты «Завтра»
Владимiра Игоревича Карпеца «Забыть-река»
(2011), сделаем на полях несколько заметок,
носящих мемуарный характер.
Однажды, еще в самом начале слома нашей
страны, до сих пор почему-то именуемого
«перестройкой» (разве, конечно, некто в
запоне действительно стоял с мастерком и
угольником), кинорежиссер Никита Михалков
высказал мысль о том, что с послевоенного
поколения Бог снял грех наших отцов и дедов,
принимавших то или иное участие в
февральском клятвопреступном бунте 1917 г.
Кровью умывшаяся Россия неимоверными
страданиями (Победа – это после беды)
очистилась от скверны этого греха.
Неудивительно поэтому, что это послепобедное
(сталинское и сразупослесталинское)
поколение дало в конце 1980-х целую плеяду
православных монархистов-патриотов –
писателей, исследователей, журналистов,
философов: В.И. Карпец, Л.Е. Болотин, А.А.
Щедрин, Р.В. Багдасаров, В.К. Дёмин, П.Г.
Паламарчук, А.А. Широпаев, В.П. Кузнецов,
Л.Д. Симонович, А.Ю. Сегень, А.Г. Дугин. С
тех пор естественное течение жизни и вполне
рукотворные причины намыли между всеми этими
людьми немало труднопредолимых преград,
хотя, например, автор этих строк по-прежнему
готов с каждыми из них встретиться, не
только повспоминать молодые годы и наше
совместное прошлое, но и обсудить оморошное
настоящее и еще более туманное будущее.
 Что
касается В.И. Карпеца, то первая встреча с
ним произошла у меня в связи с приездом в в
1991 г. Москву «Кирилловичей» – Великой
Княгини Леониды Георгиевны, дочери ее от
второго брака (с Великим Князем Владимiром
Кирилловичем) Княгини Императорской Крови
Марии Владимiровны (разведенной супруги
Принца Прусского Франца-Вильгельма, лет пять
побывшего православным, а затем вновь
вернувшегося в свое первобытное лютеранское
состояние) и сына от этого брака – то ли
Принца Георгия Гогенцоллерна, то ли Князя
Георгия Михайловича, то ли, как говорили
некоторые злые языки, просто «Гоги».
Что
касается В.И. Карпеца, то первая встреча с
ним произошла у меня в связи с приездом в в
1991 г. Москву «Кирилловичей» – Великой
Княгини Леониды Георгиевны, дочери ее от
второго брака (с Великим Князем Владимiром
Кирилловичем) Княгини Императорской Крови
Марии Владимiровны (разведенной супруги
Принца Прусского Франца-Вильгельма, лет пять
побывшего православным, а затем вновь
вернувшегося в свое первобытное лютеранское
состояние) и сына от этого брака – то ли
Принца Георгия Гогенцоллерна, то ли Князя
Георгия Михайловича, то ли, как говорили
некоторые злые языки, просто «Гоги».
О всех этих тонкостях мы тогда еще, конечно,
не ведали, но кое-что всё-таки видели. И не
только мы. Помню, как только что
постриженный в монахи и рукоположенный в
священный сан иеромонах водил этих «высоких
гостей» по одной из московских обителей и
тут же, в толпе, делился (со «своими»
разумеется) первыми впечатлениями: «Понимаю,
конечно, Кровь и Род, но как они с такими
лицами собираются править в России?..» –
«Да ведь не воду с их лиц пить», – резонно
заметил один из сотрудников Издательского
отдела Патриархата В.Н. (Вся эта экскурсия
проводилась по благословению возглавлявшего
тогда этот отдел митрополита Питирима.)
Именно при таких обстоятельствах началось
наше знакомство с Владимiром. Постепенно оно
переросло в творческое сотрудничество. Мне,
например, пришлось способствовать публикации
одной из его первых важных статей в журнале
«Советская литература» А.А. Проханова, где я
тогда работал. Участвовал Володя – пусть и
на самых первых порах – также в газете
«Земщина», издававшейся Союзом «Христианское
Возрождение», в котором в ту пору состоял и
я. Уже в 1991 г. В.И. Карпец отправился в
свободное плавание, я – через два года. Всё
это время мы перезванивались, изредка
встречались.
Особенно интенсивными наши контакты стали в
середине 1990-х. Я тогда готовил новое,
расширенное до двух томов, третье издание
моего сборника «Россия перед Вторым
пришествием». Разговоры наши вертелись
вокруг восстановления Монархии в России (во
исполнении пророчеств православных святых и
прозорливых старцев). Помню у меня тогда
вырвалось: «Вот есть
монархисты-”легитимисты” (сторонники
“Кирилловичей”), есть “соборники”, а я, по
совести, не могу себя причислить ни к тем,
ни к другим: всё-то у них борьба против, а
не за, грызня, которая отдаляет нас от
соборного единства. Я себя причисляю,
скорее, к апокалиптическому монархизму –
т.е., как предсказывали многие старцы,
уповаю на восстановление Царства в самое
последнее время и на самый короткий срок. И
нигде ни святые, ни старцы не говорят о том,
что будет восстановлена Династия, что всё
это продлится сколько-нибудь длительное
время». Владимiр со мной (тогда, по крайней
мере) согласился. Затем мы рассуждали о
«Расе Царей», о «Едином Царском Роде» (идее,
высказанной Р.В. Багдасаровым в 1992 г. в
одном из номеров редактировавшегося в то
время мною «Града-Китежа»). Так разговор
плавно вышел на проблему Меровингов, над
которой в то время В.И. Карпец много
раздумывал, знакомясь с недоступными нам
тогда западными первоисточниками и
исследованиями. Тогда-то я и предложил ему
написать специально для сборника статью или
исследование, в которой бы он изложил то, о
чем мы говорили. Он согласился. И вот,
когда, сначала в нетерпении прочитать текст,
а затем, когда сроки уже поджимали, а
обещанного всё не было, и, нервничая, я
наконец получил его, мои чувства были трудно
описать. Печатать это, по моему тогдашнему
представлению, было невозможно, во всяком
случае, в этом конкретном сборнике. И
всё-таки сомнение грызло меня, и вовсе не
только потому, что я просил его написать, а
вот теперь, получается, я отступаю от своего
слова… (Такие же сильные сомнения, как
выяснилось после, были у моего
единомышленника Л.Е. Болотина, прочитавшего
всё это потом уже в двухтомнике. Он их не
сразу смог преодолеть, в чем и сам
признавался. Но всё же преодолел!) Что
касается моих сомнений, то они заключались,
прежде всего, в том, могу ли я становиться
на пути мыслей В.И. Карпеца к читателям. За
разрешением недоумений я обратился к старцу
Николаю Псковоезерскому. Благословение с
острова последовало почти молниеносно. Книга
с текстами Владимiра Игоревича печаталась
дважды, в 1998 и 2002-2003 гг. общим тиражом
17 тысяч экземпляров.
Наряду с другими, уже перечисленными мною
авторами, родившимися в 1950-х, В.И. Карпец
принадлежит к замолчанному, потерянному
для читателей поколению, мимо которого
прошла история, занятая более «грандиозными»
проблемами, но и – так уж совпало! –
вследствие того, что люди наши утратили вкус
к чтению не только с целью познания или
размышления по поводу прочитанного, но и
просто для эстетического наслаждения. Нынче
в моде какие угодно чувственные, но только
не эстетические наслаждения.
Но даже на этом общем безотрадном фоне
фатальное невезение Карпеца прямо-таки
бросается в глаза.
Помню, как в период редактирования мною
православного альманаха «К Свету» я собрал
почти что всё написанное Владимiром в стихах
и прозе, рассчитывая всё это издать. Но
как-то, по техническим уже обстоятельствам,
не сложилось…
Опубликованные недавно романы «Любовь и
Кровь» и «Как музыка или чума» при издании
были обрезаны. Наконец исследование «Русь,
которая правила мiром» («Русь Мiровеева»)
издана с многочисленными (в данном случае
неважно по чьей вине) искажениями текстов на
иностранных языках.
Практически все перечисленные изданий прошли
незамеченным критиками. Одну из решающих
ролей сыграло тут, конечно, отсутствие
«своих» критиков у авторов, родившихся в
1950-х годах. Имею в виду не только тех
членов критического цеха, кто сам, по факту
своего рождения, принадлежал непосредственно
к ним, но и отсутствие интереса и понимания
к проблемам, которые выдвинуло в своем
творчестве это возрастное и, так уж
получилось, идейно однородное сообщество.
В чести, «на слуху» оказались те, кто сумел
прогрызться или, как говорится, влезть не
без помощи пресловутого мыла.
У этого замалчивания есть, возможно, и иные
причины. В настоящее время определенных
авторов не только, как раньше,
демонстративно не замечают, но еще и
уничтожают молчанием руками уже не чужих
(идейных противников), а своих…
Подобным образом карают за независимость
суждений, за непохожесть (причем, вроде бы,
в пределах допустимого!), разглагольствуя
при этом об обсуждении сложных вопросов всем
мiром, свободно, соборно… Попутно
подвергнувшихся остракизму духовные мародеры
не стесняются обобрать. Причем, заимствуя
кое-что из написанного, они любят
высокопарно порассуждать о морали или
поразглагольствовать о заповеди «не укради».
Возвращаясь к творчеству В.И. Карпеца,
напомним, что в самом начале 1990-х он
выступал еще и как сценарист и режиссер ныне
таких незаслуженно забытых фильмов, как
«Имя», «Третий Рим» (1991, совместно с Г.
Николаевым) и «Ангел жатвы» (1992). Владимiр
Игоревич намеревался поставить и снять оперу
М.П. Мусоргского «Хованщина». О том, что это
могла быть за постановка, дает возможность
судить хотя бы только один факт: выбор на
роль «злой раскольницы» Марфы – Лины
Мкртчян. Особенности голоса этой певицы
говорят больше, чем любые авторские ремарки
и рассуждения. Но не удалось собрать
достаточно средств. Наступали уже другие
времена…
Этого, а еще много другого, лишили мы себя и
наших потомков…
Подобная работа в вакууме – ноша часто
непосильная. Труды человека творческого
должны питать не только материально, но и
морально. Речь тут идет, прежде всего, об
обратной связи с читателем. Чувство, что то,
что он делает, кому-то потребно, что книгу и
фильм ждут, прочитают и посмотрят, обсудят,
– поддерживает писателя и режиссера
морально, дает ему силы для последующих
трудов.
Но были и те, кто никогда не отказывал в
помощи, кто понимал важность творчества и
особенно его направленности. Хорошо помню
как В.И. Карпец ездил за советом к о.
Николаю Псковоезерскому, этому
всероссийскому старцу, чтобы, помимо других,
очень важных тогда и лично, и в самом
широком смысле, вопросов, решить и такой –
не грешно ли ему заниматься творчеством.
Старец благословил. Это, насколько я помню,
окрылило тогда Владимiра. Между прочим, во
многом именно благодаря этому
обстоятельству, мы имеем сегодня возможность
читать и обсуждать повесть «Забыть-река».
***
Если брать внешнюю, бытовую,
посюстороннюю часть повести, то налицо
наличие двух реальных планов. Первый,
наиболее приземленный – легко узнаваем.
Жизнь провинциального населенного пункта в
перестройку (как говорится, не дай вам Бог
жить в эпоху перемен), разложение всех
мыслимых отношений – от экономики до морали.
В результате – потеря человеческого облика.
Видимое большинство пускается во все тяжкие.
Всё очень по-русски…
Железнодорожный узел Столетовка, в которой
обитает теперь переехавший из Москвы то ли
писатель, то ли журналист Делянов. Рядом
городок Стекольный, зарплату в котором
платят натурой (хрусталем), который рабочие,
итээры и конторские сбывают пассажирам
поездов дальнего следования, ненадолго
останавливающихся на станции Столетовка для
смены локомотивов. Вырученные деньги идут на
«жратву» и «одежку». С остальным – в
«чепок», местный «пивняк», распивочную. Там
водочка, пиво «Мальцов», которое под
дореволюционной еще маркой гонит местный
еврей Лев Залманович «то ли Зак, то ли
Зэк», под пельмешки с майонезом. Плохо ли?
Разве что после похмелья. Ну, так это потом…
Так ли мечтали жить? Наверное, нет, но так,
увы – как всегда? – вышло…
В этом контексте матерок в словесной ткани
повести выглядит весьма органичным. Любые
замены выглядели бы не только фальшивыми, но
и кричаще яркими заплатами, нежели крепкое –
но в данном случае на месте – русское
«заветное» словцо. Соленое слово рядом с
солеными моховиками под водочку. Эх, хорошо
сидим… хорошо пошло!..
Этому реальному мiру как бы противостоит,
сосуществуя рядом с ним и одновременно, мiр
леса, третьей тихой охоты. Грибы, Мещера –
всё это заставляет нас вспомнить сразу С.Т.
Аксакова и М.М. Пришвина, К.Г Паустовского и
В.А. Солоухина. Автор повести рассказывает
не только об искусстве брать грибы, но и
том, какие они сами – эти древнейшие
творения. Эрудированность повествователя в
этом описании не книжная, проистекает она из
многолетнего опыта грибника.
Однако главное в художественном
произведении, как известно, всё же
конкретные люди со своей жизнью и прошлым –
их взаимоотношения, чаяния, внутренний мiр.
И поскольку речь идет еще и о произведении
русского писателя, то, конечно, любовь
мужчины к женщине и, разумеется, к Родине.
Всё это дано через восприятие героев,
принявших веру в 1980-х. А это особый мiр,
резко отличающийся не только от
преодоленного (преодоленного ли?) советского
прошлого, но и от вожделенного (вот только
знаемого ли подлинно?) старозаветного,
дореволюционного.
Как это свойственно неофитам вообще,
принимали они всё чрезвычайно, часто даже
чрезмерно, серьезно. В этой среде греховным
признавался даже уже и «пир мысленный» –
чтение книг философских и любой другой
неправославной литературы.
Все они, как правило, вспоминали о своих
«корнях». Однако религиозность бабушек и
дедушек преувеличивать всё же не следует:
покрестить и отпеть – еще не церковная
жизнь.
Это возвращение на круги своя имело, пусть и
едва заметный, но всё же привкус очередного
эксперимента. Где-то еле уловимо витало до
боли знакомое: Отречемся от старого
мiра…; Мы наш, мы новый мiр построим… И
конечно же, нетерпение (не
нетерпимость, а именно нетерпение:
чтобы всё было прямо здесь и сейчас!).
Слишком как-то легко рвали семейные узы
(подобным образом некогда «уходили в народ»
«в революцию»). Искренне, с горящим сердцем…
Совершенно упуская из виду, что подлинно
духовное горение не должно обжигать или
ослеплять окружающих. Только согревать и
светить.
Знавал я одного такого монаха (теперь он уже
иеромонах, а, может быть, и более того),
оставившего престарелых родителей и
нескольких детей от трех распавшихся браков.
Родители, смирившись, сходили в могилу один
за другим. Отец после смерти супруги
(женщины сильной и властной) долго звонил
мне и моей дочери. Ему было одиноко. Чем
мог, материально он помогал разбросанным по
городам и весям своим почти не знакомым ему
внукам и внучкам, и при этом по старомодному
блюл честь семьи: сколько помню, ни разу он
не осудил сына, долго не могшего найти свою
обитель. Так кто же здесь христианин? –
спрашивал я себя. На память приходил
Преподобный Сергий Радонежский – один из
великих отцов русского монашества, – всей
своей жизнью, казалос, подававший пример
последователям: сначала он упокоил своих
родителей и лишь затем оставил мiр…
Знакомый же мне монах поступил «по
правилам»: если, мол, отрекся от мiра – так
отрекся и ничто мiрское меня теперь не
касается. Отряс, как говорится,
прах прошлого со своих ног. (Как хотите,
а снова знакомые мотивы.)
Для любого трезвомыслящего из тех, кто вел
тогда церковную жизнь, теперь ясно, что была
она лишена нормального течения, а потому
неизбежно накладывала отпечаток на весь ее
строй жизни, видоизменяя его в соответствии
с возникшими вдруг реалиями.
«Свободы наглотались мы как водки», –
сказано поэтом иного направления, но всё же
о том самом времени.
Много воды утекло с той поры. Кое-что
изменилось. Нет уже того горения. Да и
отношения в самой Церкви складываются
по-другому, всё более сближаясь с положением
дел в светском обществе. Лучше ли стало от
такого «трезвения»? Не знаю. Но почему-то
вспоминаются слова Апокалипсиса: «…Знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты
был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а
не горяч и не холоден, то извергну тебя из
уст Моих. Ибо ты говоришь: “я богат,
разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и
слеп, и наг» (Отк. 3, 15-17).
Именно в описанных нами кратко условиях
герои повести решают вечные метафизические и
историософские проблемы, богословские
вопросы: семейные, взаимоотношения мужчины и
женщины, будущее России, Монархии и, конечно
же, – куда от него денешься? – еврейский.
В повести всё правда. И Льва, и Тоню, и
Тихона, и Аленушку Деляновых, и Алика, Лару,
Ольгу, Леху – я их всех видел-перевидел,
пусть и под другими именами.
Главный герой Лев Львович Делянов, похоже,
тоже пережил трагедию разрыва с родителями,
подробности которой остались за рамками
повествования. Отец его был «главным
инженером одного из крупных наших
атомоходов». Сын «пошел другим путем».
Это предательство еще аукнется. Как
говорится, не стреляй в прошлое из пистолета
– не получишь в ответ пушечный залп.
Сам В.И. Карпец вовсе не сторонний
наблюдатель типичного конфликта 1980-х, о
чем он ранее рассказал в романе «Как музыка
или чума». И всё же неправильным было бы
полностью уподоблять автора своему герою
Делянову, до полной их неразделимости. Лев
Львович Делянов, да и его семья – куда более
«отстраненные» образы, чем почти
автобиографический герой предыдущего романа
Андрей Ветвицкий. О понимании трагичности
разлома и искреннем желании его преодоления,
к тому же, свидетельствуют вот эти строчки
Константина Случевского, предпосланные В.И.
Карпецом в качестве эпиграфа к сборнику
своих стихов «Утро глубоко» (1989), т.е. к
тому времени, когда отец его еще не отошел в
мiр иной:
...И первым добрым делом их,
когда они придут,
то будет, что отцов своих
они не проклянут.
Трагедия это двойная: отталкивание
сыновей от родителей при непреодоленном
разрыве последних со своими, свою очередь,
предками из потонувшего Русского мiра. И еще
одно важное замечание: это отречение 1980-х
– дело свободного выбора, а не
продолжающегося развития, которое якобы
прервать невозможно…
При этом твердость в отречении от прошлого
еще не означает настоящей (а не кажущейся)
убежденности в сверхценности
новообретенного. Как пишет В.И. Карпец:
«Делянов не мог сказать сам себе, что не
верил в Бога. Нет, он верил, и, как многие,
бурно, как тогда говорили, воцерковлялся в
середине восьмидесятых. […] Но постепенно он
к Церкви охладевал».
Антонина, супруга Льва Делянова, «столичная
жительница и, как это называется,
интеллигентка в нескольких поколениях,
выпускница филфака». Работала она в МИДе, в
бюро переводов. По ее собственным словам,
«ей нужна была только Церковь».
Явление это – крайне распространенное в
«неофитской среде». Оно же и питает многие
насмешки, а теперь и прямую злобу у врагов
Церкви, особенно в последние годы. Сам
Владимiр мне рассказывал, что обобщению
своих переживаний и наблюдений он во многом
обязан еще и работой над переводом
католической доминиканской, во многом
«бракоборной» «Золотой легенды» XII века, в
которой супружеская холодность возводится в
христианскую добродетель. «Слава Богу, что
все это не вышло!» – говорил он мне,
одновременно выражая некую внутреннюю
благодарность оригиналу за то, что тот помог
ему привести свои «очарования и
разочарования» в порядок, по крайней мере,
мысленный.
К супружеским обязанностям Тоня относилась
«с брезгливостью». Автор так описывал суть
их взаимоотношений: «Когда Делянов
спрашивал, быть может, она хочет… в
монастырь, она отвечала: “Нет, зачем же, я
хочу детей”. На вопросы – частые довольно –
о том, что, быть может, он, Делянов, чем-то
ей неприятен, и так давай тогда вовсе
прекратим это, она отвечала – “Нет, зачем
же, ты же мой муж, а с мужем это не
запрещено”. Начиналось всё сначала. Делянова
томило, она уступала».
Вполне закономерно, что жена, извращенно
понимающая свое естество, сотворенное
Создателем, и презревшая обязанности,
вмененные Им же, засыхает, превращается в
сухую смоковницу.
«Безплодной смоковницей» называют обычно
человека, жизнь которого не приносит никаких
результатов. Выражение это восходит к одному
из Евангелий, рассказывающему о том, как
однажды Иисус Христос подошел к росшей при
дороге смоковнице (инжирному дереву) и не
найдя на ней ни одного плода, «кроме одних
листьев», сказал: «Да не будет же впредь
от тебя плода вовек». Только сказал, как
сразу же смоковница засохла.
В своем извращенном понимании сути
взаимоотношений женщины и мужчины в
православном браке Тоня, увы, не одинока.
Выставляя как щит рассуждения о «девственном
браке», о котором она и подобные ей знали
только по книжкам, такие жены, как
справедливо пишет автор повести, обычно
«хирели, затихали и затухали – а чаще просто
быстро превращались в сварливых
полустарушек. … Сухие руки, сухие губы…»
То же после встречи с Тоней подтвердила и
Лара, женщина, беззаконно разделившая ложе
со Львом Деляновым в Столетовке: «Сухая
она».
Ветвь сухая, нежизнеспособная… Оглянитесь,
сколько таких вокруг…
Нет гармонии в отношениях, а, значит, и
красоты. А некрасивость, как предупреждал
Ф.М. Достоевский, непременно убьет.
«А ведь так бывает, – размышлял и сам Лев
Делянов, – что Вера убивает Любовь. Встает
между двумя людьми, причем, на самом деле,
не тогда, когда они разной веры, а чаще,
гораздо чаще, когда одной…»
Не страсть к женщине и любовь к лесу уводит
Льва Делянова из семьи, а забвение венчанной
женой своего долга и отсутствие у нее любви,
не абстрактной, а данной в Новом Завете (1
Кор. 13, 1-13).
По справедливому замечанию одной из
лесковских героинь: «Это никогда не уляжется
в сердце ее мужа, которое она разбила,
как девчонка бьет глиняную куклу».
По существу это самочинное умерщвление плоти
женой, при этом она покушается и на плоть
мужа, поскольку супруги, согласно
православным верованиям – едина плоть.
Тоня заставляет физически и душевно страдать
своего мужа, загоняя его таким образом в
постель к Ларе, при всей, конечно, и его
ответственности за это. Он, кстати, и
осознает это: «Я виноват».
По глубинной своей сути Антонина
эмансипированная женщина, камуфлирующаяся
платком. Еще более выявляют эту ее суть
дети, настроения которых формируются,
разумеется, не без ее участия.
Не шелохнувшись и не проронив ни слова,
наружно полной смиренницей, сидела она во
время безобразной (в любом случае) сцены,
когда ее (но и его ведь тоже!) сын Тихон
избивал отца. (Цепочка измен и подлостей
советских и постсоветских поколений налицо.
Лев Львович – внутренне таков же.)
После этого в Прощеное воскресенье Антонина
«демонстративно подвела отца и сына друг к
другу и сказала “Ну, просите прощения и
миритесь”, но Тихон сказал, что все это ложь
и выдумки, а он, Тихон, атеист. Антонина не
ответила ничего, отошла, и Тихон тоже,
развернулся и отошел. “Я вам здесь не нужен
– все чаще говорил Делянов Антонине – Вам
без меня лучше будет”. “У тебя еще есть
Алена – отвечала Антонина – Ты же знаешь,
как она тебя любит”». Как видим, сына Тихона
мать уже вывела за скобки. Сама. И то, что
отца возненавидел, и атеистом стал, – всё
это как будто ничего страшного. Младшая же
дочь, в ее расчетах, была тем магнитом,
который мог еще удержать мужа в семье. Саму
себя Антонина, вероятно, не хотела утруждать
этим. Хлопотно, трудно и ниже ее
достоинства.
А вот уже разговор в Столетовке, когда связь
мужа была налицо:
«– Ты прекрасно знаешь, что жить вместе мы с
ним не сможем.
Речь шла, конечно, о Тихоне.
– Живите спокойно. В конце концов, просто не
замечайте друг друга – ответила Антонина. –
Хотя я считаю, что вы должны помириться».
Одним словом, как написал в одном из своих
стихотворений Ярослав Смеляков: «Никакая не
мать, не жена». А посвятил он его, напомним,
революционерке, этакой «Гадюке», если
вспомнить другого классика – Алексея
Толстого. Неожиданное (и при этом
знаменательное!) сходство.
Так кто же она, Антонина Делянова, та ли, за
кого она сама себя выдает и кем себя
ощущает, а мы всё это почему-то принимаем за
чистую монету?
Лишь одной
революции дело
Понимала и знала она…
И что же в нашем случае следует понимать
под словом «революция»?
Выбор 1980-х совершенно явно завел героев в
тупик, загубив не только жизнь, но,
возможно, и души.
Но, как это часто бывает, никакого
велосипеда тут изобретать было не нужно.
Пример уже давно учинен был. И содержался он
в нашей спасительной русской литературе, в
образах, созданных многими поколениями наших
писателей.
Таков, например, один из наиболее
пленительных и одновременно малоизвестных
женских характеров в романе Н.С. Лескова «На
ножах».
Генеральша Александра Ивановна Синтянина
кое-чем схожа с Антониной Деляновой.
Знакомые о ней тоже говорили: «Она святая!»
Она также жила в непростую эпоху разлагавших
Россию «Великих реформ»: «Я, незаметная и
неизвестная женщина, попала под колесо
обстоятельств, накативших на мое отечество в
начале шестидесятых…»
О себе она свидетельствовала: «Я всегда
верила и верую в Бога просто, как велит
Церковь, и благословляю Провидение за
эту веру». Именно из этого вытекало и
другое ее убеждение: «брак это наша святыня
жизни».
Вот ее представление о сути этой святыни: «Я
бы ему дала столько, сколько он может взять
для своего счастья, и не ввела бы его в
искушение промотать остальное… Что мне в
поэте, который приходит домой брюзжать да
дуться, или на что мне годен герой, которому
я нужна как бы забава, который черпает силу
в своих, мне чуждых борениях? …Уж если ты,
милый друг мой, если ты выбрал меня, потому
что я тебе нужна, потому что тебе не благо
одному без меня, так (Александра Ивановна,
улыбаясь, показала к своим ногам), так ты
вот пожалуй сюда; вот здесь ищи поэзию и
силы, у меня, не где-нибудь и не в
чем-нибудь другом, и тогда у нас будет
поэзия без поэта и героизм без Александра
Македонского… Взять в руки это вовсе не
значит убить свободу действий в мужчине или
подавить ее капризами. Взять в руки просто
значит приручить человека, значит дать ему у
себя дома силу, какой он не может найти
нигде за домом: это иго, которое благо, и
бремя, которое легко. …Если бы вы попали в
эти сжатые руки, так бы давно заставила вас
позабыть все ваши муки и сомнения, с
которыми с одними очень легко с ума сойти».
Правда жизни тут полная. Причем, доверила
она ее человеку, которого скрытно любила. Но
долг по отношению супругу был при этом
нерушим (как и для Пушкинской Татьяны: «Но я
другому отдана; Я буду век ему верна»). Как
говорила – так и жила, заслужив искреннее
уважение благоговевшего перед ней ее первого
супруга, вдового генерала-жандарма.
Выдержанный и скупой на слова, этот
престарелый ветеран Турецкой кампании так
однажды ответил на неловкое замечание одного
из своих добрых знакомых: «“Чего моя супруга
терпеть не может, то всегда и скверно, и
мерзко”, – и с этим он поцеловал два раза
кряду руку …жены».
Генеральша – человек цельный. По ее словам,
она «была всегда точно такая и всегда думала
так, как говорила в эту минуту».
Вот ее разговор с изуродованной нигилистами
своей антагонисткой:
«– Безнаказанно жить с кем должно для
честной женщины невозможно, потому что
такая жизнь всегда более или менее сама в
себе заключает казнь, и свет, исполняющий в
таких случаях роль палача, при всех своих
лицемериях, отчасти справедлив.
– И вы бы его спокойно несли, этот суд? –
воскликнула Бодростина.
– Конечно, несла бы, если была бы его
достойна.
– И несли бы безропотно!
– На кого же и за что могла бы роптать?
– И вы не пожелали бы сбросить с себя этой
фальши?
– Сбросить? Но зачем же я могла бы
пожелать сбросить то, чего мне гораздо
проще было не брать?»
Настоящая русская православная женщина,
идущая Царским путем…
Так ее воспитали, так она жила, живет и жить
будет, так воспитает своих детей, которых
пошлет ей Бог во втором уже браке с
Подозеровым. Благословил же на это
супружество Александру Ивановну незадолго до
кончины сам муж ее генерал, человек самой
обычной крепкой веры русского служивого
человека («…Отпускаться будет нечем у
сатаны, – признавался он незадолго до
кончины и, указывая на Образ Христа в
Терновом венце, продолжал: – Одни вот-с
Его заслуги, вот-с вся и надежда».)
И вот в своем завещании, незадолго до
роковой операции врученном «Испанскому
Дворянину» (Подозерову), он «с привычной
ясностью настоящего делового человека» так
излагал последнюю свою волю: «…Прошу ее, не
соблюдая долгого траура, выйти замуж за
Андрея Ивановича Подозерова. Чем скорее ими
будет это сделано, тем скорее я буду
утешен за могилой и успокоен, что я не
всю ее жизнь погубил и что она будет
еще хоть сколько-нибудь счастлива прежде,
чем мы встретимся там, где нет ни жен, ни
мужей и где я хочу быть прощен от нее во
всем, что сделал ей злого. …Я знал и знаю,
что моя жена любит вас с тою покойною
глубиной, к которой она способна и с
которою делала все в своей жизни.
Примите ее из рук мертвеца, желающего вам с
нею всякого счастия».
Прочтем всё это и, если в состоянии,
устыдимся самих себя и убедимся, сколь мы
малы и ничтожны.
Однако Тоня Делянова (возвратимся вновь к
героине «Забыть-реки»), как будто, не читала
русской литературы, хотя вряд ли, ведь она
филолог по образованию. Но судя по повести,
не любила ее и не принимала, более того
ставила ни во что. Попытавшегося как-то за
столом прочитать стихи любимого им Ф.И.
Тютчева мужа Тоня, «едко усмехнувшись»,
срезала вопросом: «Это что, отец Церкви, что
ли?»
Хожение Антонины, по определению Н. Клюева,
в таком «жестоком Православии» губительно не
только для ее супруга и семьи в целом, но и
для нее самой.
Слова, сказанные ею во время попытки
примирения с мужем, поначалу вроде бы дают
надежду: «Это неизбежно было. Я сама
виновата, Лева». При этом, «она,
всхлипывая, вдруг уткнулась в него».
Но, услышав слова искреннего покаяния
супруга («Нет, это я – ответил Делянов –
Прости меня»), она тут же встрепенулась и
вдруг решительно заявила: «Нет, не надо».
«Она отвела его руки, подняла голову. В
глазах не было ни слезинки. – Бог простит».
Нет, Тоня не Авдотья Рязаночка,
отправившаяся в неизвестность освобождать
мужа из татарского плена. Она из другого
теста. Она сухая ветка.
Это иссушение себя Тоней сродни запащиванию
в смерть. Существовало когда-то такое
явление. Правда те, как правило, были
одиноки, решая сами за себя, у этой ведь
были муж и дети…
Внешнее безстрастие и молчание матери на
выходку сына, избившего на ее глазах отца,
ее венчанного мужа, похоже, скорее, на
молчаливое согласие с преступившим законы
Божии и человеческие чадом, заявившим,
кстати, при этом: «У меня мать святая!»
Что-то заставляет нас здесь вспомнить слова
К.П. Победоносцева из его письма графу Л.Н.
Толстому: «Ваш Христос – не мой Христос».
И еще один вопрос: если это отношения
православных, то в чем тогда преимущество
христианской семьи перед Филемоном и
Бавкидой – известными супругами античного
(т.е. столь презираемого Тоней языческого)
мiра?
И вот еще что: наши родители, крещенные
нашими дедушками и бабушками, но никогда,
как правило, не ведшие церковный образ
жизни, были на деле большими христианами,
чем их дети, отрясшие во имя веры (веры ли?
или всё это происходило в рамках известного
конфликта отцов и детей?) прах на порогах
отчих домов, жившие по церковным правилам и
аккуратно причащавшиеся каждую неделю. И,
видимо, за всё, что понесли те люди, до сих
пор заплевываемые негодяями как «совки»,
многие из них удостоились перед переходом в
тот мiр принести покаяние, причаститься и
собороваться. Если будем честны (а зачем
тогда и браться за перо?), то признаем: так
было у многих из нас. И, может быть, в этом
(примирении родителей с Богом) и была
единственная хоть какая-то заслуга, которая
зачтется нетерпеливым их детям там…
Но вот настало время поговорить и о женщинах
Льва Львовича Делянова: Антонина versus
Лара. «Двоица» «Тоня – Лара», очевидно,
также и отсылка к «Доктору Живаго». Но
именно отсылка, потому что на героинь
Пастернака они ни внешне, ни «характерами»
не похожи.
Лариса – женщина совершенно иного замеса,
нежели Антонина. Она тоже искорежена
перестройкой. Молодой ее муж Алик –
грузинский еврей, содержатель бани и
«массажного» салона, а по существу сутенер.
Исключения не делает он и для своей жены.
Ради выгодного гешефта он даже легко
уступает (или делает только вид?) ее
Делянову.
Алик приезжает к Льву Львовичу, пьет с ним
за «симбиоз», вспоминает песню: «Одну
подругу полюбили коллективом – сначала друг
мой, а потом и я…», заключая словами:
«Принимаешь жену, принимай и мужа».
Между ними происходит знаменательный диалог.
Алик спрашивает Делянова:
«– …Антисемит, да?
– Да, нет, пожалуй… Впрочем… может быть,
немного. Как все нормальные русские люди».
Лара, как оказалось, была тоже верующей. Она
не только носит крест, но ходит в храм,
исповедуется. Правда, обращается к
священникам иным, служащим совершенно среди
других людей, отличных от тех, которые
исповедуют таких, как Лев или Антонина и
интересующихся у своих «пациентов»,
пришедших в «духовную лечебницу», по большей
части «блудом, прелюбодеянием, истяцанием,
скоктанием, малакией, невоздержанностью в
супружеской жизни, контрацепцией».
В церквях, в которые приходят такие, как
Лара, всё проще и обыденнее, ибо в них
пребывает как раз корневой народ,
вытягивающий на своих плечах (как уж может)
всю страну, и потому спрос батюшек не так
строг и епитимии помилостивей. И это вовсе
не потворство низменным инстинктам: построжи
их – и они ходить перестанут.
Не забывайте также, что русская жизнь в ее
полноте «прописана» не только в книжках с
благочестивыми рассказами «от
божественного», но и в «заветных сказках»
А.Н. Афанасьева.
Пытаясь уложить в своей голове случившееся,
Делянов рассуждал: «…Сначала христиане были
такие, как Антонина. Это были катакомбы,
гонения… А потом, когда при Константине и
после Константина Империя стала
христианской, и стали все в ней стали
христианами – такими, как Лариса».
Одна из высших точек конфликта – диалог двух
его женщин – законной засушившей себя жены
Антонины и преступной, но в то же время
желанной и живой Ларисы. «Делянов хорошо
видел, что вроде бы провинциалка Лариса явно
выигрывает и ведет во всей этой, мягко
говоря, двусмысленной ситуации, а столичная
жительница и, как это назывется,
интеллигентка в нескольких поколениях…
Антонина – то, что принято называть,
“тушуется”, а главное, что ее переполняет
страшная боль, а Ларису, наоборот, чуть ли
не торжество. К тому же не было у Ларисы и
обычных для нее вульгарно-разбитных
интонаций, не говоря уже о том, что
называется “матом не ругается, а
разговаривает” – ставшей для Делянова уже
привычной …манеры. Перед ним сидела
совершенная светская дама. “Наверняка бы в
Москве она держалась так же” – вдруг
почему-то подумал Делянов… Это, конечно, был
разговор победительницы».
Но было у Лары и иное естество (природа) – и
во внешности и в повадках, чем-то
напоминающее описанное в стихотворении З.Н.
Гиппиус «Боль» (1906):
Красным углем тьму черчу,
Колким жалом плоть лижу,
Туго, туго жгут кручу,
Гну, ломаю и вяжу.
Шнурочком ссучу,
Стяну и смочу.
Игрой разбужу,
Иглой пронижу.
И я такая добрая,
Влюблюсь – так присосусь.
Как ласковая кобра я,
Ласкаясь, обовьюсь.
И опять сожму, сомну,
Винт медлительно ввинчу,
Буду грызть, пока хочу.
Я верна – не обману.
Ты устал – я отдохну,
Отойду и подожду.
Я верна, любовь верну,
Я опять к тебе приду,
Я играть с тобой хочу,
Красным углем зачерчу...
Так в повести появляется непоменованная
змеедева. Встреча с ней привела Делянова в
растерянность: «…Никогда ничего подобного –
он даже признавался себе, что не мог
предположить, что такое существует, и жалел,
что ему действительно не тридцать. …Прожил
в законном и даже освященном Церковью браке
более двух десятков лет, по сути, женщину в
безднах и глубях ее прежде так и не знал».
Метания, подобные тем, которые совершают
супруги Деляновы, характерны для людей,
сорванных с корней, лишенных почвы.
Вот так
страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах,
Что я с народом дружен?
– писал в минуты прозрения даже такой
воистину народный поэт, как Сергей Есенин.
Что касается героев повести, то тут речь –
еще раз повторим – идет не просто о людях
верующих, православных, а о недавно
воцерковившихся (в первом, по существу,
поколении).
Это имитация продолжения прерванной
традиции; герои нащупывают оборванные концы
в меру своего понимания.
По старому присловью, думали, что заводили
патефон, а оказалось…
Фамилия героев – Деляновы – предвосхищает и
как бы предопределяет дальнейшее: «…Всякий
город или дом, разделившийся сам в себе, не
устоит» (Мф. 12, 25).
Предавая венчанную жену («И будут оба в
плоть едину» Мф. 19, 5), Лев Львович
по существу предал самого себя, переступив
дозволенную черту: «… Что Бог соединил одним
ярмом, то человек не должен разделять» (Мф.
19, 6). Он и сам осознал, что «предал
безповоротно и окончательно».
Это то, о чем можно прочитать у Н.С.
Лескова: «…Жить безнаказанно с кем
хочешь вместо того, чтобы жить с кем
должно, это все, чего может пожелать
современная разнузданность».
Внутренние изменения закрепляются и во
внешнем облике Делянова. Он превратился в
«скобленое рыло». Лара побрила его, подарив
электробритву, наказав при этом, чтобы перед
ее приходом он непременно брился.
Случившееся Делянов, по обычаю, прикрыл
философскими рассуждениями: «…Все женщины
делятся на тех, кому нравится у мужчин
борода, и тех, кто ее терпеть не может». Но
на задворках памяти осталось (не могло не
остаться!) сказанное ему когда-то при первой
встрече лесником Мiровеевым (об этом
наиважнейшем персонаже повести речь
впереди): «Борода бороде брат». А теперь,
выходит, уже не брат?..
И – в который раз – приходится вспоминать:
некрасивость убьет!
Только начни – остановиться уже негде. «Он…
все предавал и предавал». Однако новым
предательством прежнее, как известно, не
исправишь.
Но когда же зародилась вся эта коллизия? В
чем сущность противостояния жизни и аскезы,
при которой красота каждой из них
превращается в свою противоположность? Как
сопрягаются мiрская жизнь и монашеская?
Начиная с 1980-х, было распространено
мнение: разнствует исключительно дозволением
мiрянам деторождения. По существу это
значило либо спуск планки для монахов (что
на деле уже и происходит), либо задирание
планки для мiрян, которую те не в состоянии
исполнить. К сожалению, некоторые священники
довели эту формулировку до абсолюта, лишив
ее при этом каких-либо нюансов и уточнений.
Крайность эта таит в себе большую опасность.
Мiрянину, получившему такую установку от
духовника, разум говорит одно, а жизнь
диктует другое. Сколько на этом пути
встречалось изломанных жизней и искривленных
судеб.
Оказались почему-то забытыми (чрезвычайно
активно используемые в других случаях)
церковные принципы акривии
(строгости) и икономии (послабления),
а также слова Господа, обращенные Им к
фарисеям: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф.
9, 13).
Удивительно к месту в нашем случае
приходятся слова профессора Преображенского
из «Собачьего сердца» М.А. Булгакова в связи
с безобразиями в доме, которые стали
происходить сразу же после прихода к власти
большевиков: «Разве Карл Маркс запрещает
держать на лестнице ковры? Где-нибудь у
Карла Маркса сказано, что второй подъезд
калабуховского дома на Пречистенке следует
забить досками и ходить кругом через черный
двор? Кому это нужно? Угнетенным неграм? Или
португальским рабочим? Почему пролетарий не
может оставить свои калоши внизу, а пачкает
мрамор?»
С одной стороны, заставь дурака молиться,
он и лоб расшибет. Это о Шариковых. С
другой, нужно присмотреться и к коноводам… А
вот это уже о Швондерах. У каждого, как
говорится, свое собственное место и с
каждого свой спрос.
Помню как в одной из телепередач
писательница со звучным именем одной из
пушкинских героинь и фамилией великого
русского классика, но с черными характерными
глазками, точь-в-точь, как у ее собеседника,
главного раввина России Адольфа Шаевича, –
по виду совершенная Ривка или Дворка, –
задает своему визави вопрос: «А может
нееврей принять иудаизм?» – «Может, – тянет
Адольф Соломонович и улыбка чуть касается
его губ, – но это очень трудно, почти
невозможно». – «Почему?» – «Ну, видите ли,
иудей должен соблюдать сотни всяких правил,
есть множество запретов: того нельзя, этого.
Мало кто может выдержать». – «А как же
евреи?», – спрашивает, делаясь
неправдоподобно наивной, собеседница. – «А
евреи никак, – щурится Адольф Соломонович, –
они не соблюдают, но ведь они же родные дети
у “б-га”. Да, они шалят, но им всё прощают».
Как говорится, «евреи шутят». Ну, а если
серьезно, то соблюдать правила и в том, и в
нашем случае должны, выходит, одни и те же.
Вспомните сказанное некогда превращенным
после убийства в идола священником Менем:
Крестившиеся евреи вдвойне избраны – как
евреи и как христиане. И с этим шулерским
подлогом солидарно не так уж мало нынешних
православных батюшек, причем не все из них
принадлежат к племени «избранных».
Именно это еврейское давление породило
«Русского Бога», а у рационалистических
немцев – «Арийского Христа».
Многих в описываемое в повести время покинул
здравый смысл: берите себе то, что по плечу
и по чину, в котором пребываете.
Одна наша знакомая, например, начитавшись и
наслушавшись, решила не есть мяса. Пошла к
священнику. Тот ее благословил: «Ну что ж,
дело доброе…» Года два она ничего мясного
действительно не вкушала. Но потом сменила
духовника, а тот ей: «А кто тебя, мiрянку,
благословил на такие подвиги?» Пришла домой,
рассказывала она нам, открыла холодильник
(жила она вместе с семьей сына), а там –
куриные ножки. Пожарила их. «Верите ли, враз
съела почти что килограмм. Съела и…
испугалась: куда столько влезло…»
То есть совсем как наш Лев Делянов, которого
его супруга Антонина совершенно надуманно и
самочинно держала на голодном пайке, но в
ином, конечно, смысле.
В этом примере знаменательно еще и то, что
не только мiряне, читающие благословленные
Церковью книжки, не опытны, но и батюшки
недалеко от них ушли. Последнее, конечно,
понятно: ведь и они люди и прилетели-то они
не с Марса, а росли, учились и работали бок
о бок с нами и, за небольшим исключением,
происходили также не из семей верующих. Так
что учились и переучивались на ходу. Как до
этого и их родители в 1930-1940-е годы. Как
говорится, мы академиев не
кончали…
Есть примеры просто разительные. Один из
архиереев, например, работал официантом. А
ныне широко известный священник, славящийся
своими проповедями и строгостью взглядов,
был инженером по социалистическому
соревнованию (были в те времена и такие
должности).
Однако не все метаморфозы, подобно
приведенным нами, завершились столь удачно и
безболезненно. Некоторые закончились
плачевно, как для них самих, так и для их
паствы. Такое время на Руси уже было…
Достаточно вспомнить тот же роман Н.С.
Лескова «На ножах»: «Нет; это даже страшно,
во что нынче обернулись эти господа:
предусмотрительны, расчетливы, холодны...
Неуязвимы ничем? В спириты идут; в попы
пойдут... в монахи пойдут. Отчего же
не пойдут? пойдут. Это уж начинается
иезуитство. В шпионы пойдут... В шпионы!..
…Если Бог Саваоф за нас сверху не вступится,
так мы мiр удивим своею подлостию!»
Не секрет, что вопросы пола являются
наиважнейшим рычагом для тех, кто хотел бы с
их помощью связать или расковать (но
опять-таки для того, чтобы еще сильнее
связать) человека.
В физиологическом смысле соитие – едва ли не
единственный момент, когда человек по
настоящему свободен, причем, несомненно, по
замыслу Того, Кто его создал. Таким образом,
все те, кто так или иначе пытается в этой
ситуации накинуть на человека чрезмерную
узду, берет на себя весьма дерзновенную
функцию: проконтролировать (и
скорректировать) то, что заложено
Создателем… Речь, конечно, тут не идет о
прелюбодеянии.
Возражения, что это, мол, страсть, причем
такая же, как, например, жадность, воровство
и т.д., с которыми-де нужно бороться, «не
проходят», поскольку в результате того, о
чем речь, продолжается жизнь, без чего
пришел бы конец человечеству как таковому
(т.е. опять-таки замыслу Создателя).
Последнему обстоятельству Промыслом Божиим
явлен нам пример: чрезмерное усердие
монголов, отдававших в начале ХХ века
мальчиков в буддийские монастыри, едва не
привело к вымиранию их как народа. Это
усердие верующих ламаистов было решительно
остановлено красными монголами, причем в
рамках антирелигиозной борьбы. Существует и
другой яркий пример государственного
директивного воздержания. Это Китай. Жесткий
контроль за рождаемостью привел уже в наши
дни к резкому перекосу баланса между
мужчинами и женщинами, т.е. к угрозе
депопуляции в целом и вынужденному в
ближайшем будущем «походу за невестами» в
соседние страны, о чем пока что все
предпочитают толерантно помалкивать.
Есть и еще один важный побочный эффект
воздержания, не известный, к сожалению,
современному мiру, когда мощная энергия
канализируется в иное русло. Когда-то как с
этим быть хорошо было известно монахам (но,
разумеется, не нынешним) и воинам – особенно
перед решающей схваткой.
Более актуальными для нас являются проблемы
регламентации семейной жизни «новых
православных». Повесть В.И. Карпеца является
одним из важных свидетельств проникновения в
православную среду кошмара мелочной
регламентации, характерного для восточного,
по сути дела азиатского, менталитета,
первоначальных носителей этих правил.
В.И. Карпец пытается объяснить (себе и нам)
возникшую проблему при помощи исторических
аналогий между временем первохристиан и
эпохой воцерковления Империи. Из этих же
различий, по его мнению, вытекает и
отношение верующих к Царству, т.е. к идее
Монархии. Однако это лишь отчасти верно.
Ибо, по нашему мнению, определяющим для
таких настроений среди неофитов 1980-х были
вовсе не исторические примеры, а вполне
конкретные построения, возникшие в
результате преобразующего влияния на Русское
Православие идей Ветхого завета, а вслед за
ним и талмуда.
Воцерковление 1980-х оживило все эти
когда-то кое-как преодоленные крайности
(весьма характерные для неофитов во все
времена и во всех странах).
Всем, так или иначе знакомым с вопросом,
известно, как детально (до смешного)
разработаны у евреев правила поведения в
самых разных обстоятельствах – от вкушения
пищи до первой брачной ночи. (Недаром
поэтому возглашено, что изучающий талмуд
нееврей достоин смерти.) Но вот странное
обстоятельство: удивительное созвучие всей
этой блошиной регламентации обнаруживают
православные книги, написанные уже в наши
дни отцами из монашествующих. Приходилось
держать в руках одну из них –
многостраничное «исповедание грехов»,
рекомендованное «в помощь мiрянам». Это
своего рода энциклопедия не только грехов,
но и точнейшая классификация всевозможных
способов… Но откуда, подумалось, у
православных это – почти противоестественное
– внимание к деталям? Да еще и у монахов?..
Этот мелочный буквоедский дух не мог не
вызвать, в конце концов, естественного
отторжения носителей совершенно иной
ментальности. Но произошло это уже, когда
были изуродованы десятки жизней людей,
подобных описанным в повести В.И. Карпеца.
Однако дело здесь, увы, не только в талмуде,
о котором философ, лагерник и православный
монах, творивший «умную молитву», А.Ф. Лосев
вполне определенно писал, что олицетворяемая
им религия «есть религия атеизма, атеизм,
возведенный на степень религии. Другими
словами, с точки зрения христианства это
есть максимально и наилучше выраженная
система сатанизма». Так что, уж какое
там «ваши пророки – наши пророки» или
«старшие братья»…
Но, конечно, не из талмуда напрямую черпали
вдохновение монахи, составлявшие
«исповедание веры для мiрян» и духовники,
наставлявшие Льва и Антонину Деляновых.
Многое восходит тут еще ко временам Ветхого
завета. Ведь «законничество» у них всегда
было в крови.
В Христианстве, в противоположность этому,
господствуют, как известно, Любовь и
Милосердие Божие. Русское осмысление этого
противостояния содержится в «Слове о Законе
и Благодати» митрополита Илариона,
многострадальной книге, долго не
издававшейся (впервые это произошло в 1844
г.), а в течение почти что всего ушедшего
столетия запретной.
В своем известном сочинении митрополит
Киевский Иларион (первый епископ из русских)
в XI в., т.е. в Былинные еще времена,
проводил четкую грань между иудаизмом и
Христианством, говоря о полной
несовместимости Ветхого завета с Заветом
Новым.
Эти различия «рабского» Закона и «свободной»
Благодати он наглядно представлял в
антагонистических парах: «тень» и «Истина»,
«свеча» и «Солнце», «стужа ночная» и
«солнечное тепло». По словам Святителя,
приняв Христа, человек уже не «теснится» в
Законе, а «в Благодати свободно ходит».
Противостояние спасающего начала
Милосердного Русского Бога карающему «б-гу»
душного законничества. Примечательно, что в
древнерусских еще документах само слово
закон замещалось словом Правда.
Чтобы понять, каким путем этот чуждый самой
сути Христианства дух проник все же в
Русское Православие, следует сделать
небольшое отступление, рассказав об истории
бытования у нас Ветхого завета.
Для православного человека Ветхий завет
имеет значение исключительно лишь в связи с
Новым Заветом Господа нашего Иисуса Христа.
По существу нам надобны лишь некоторые (а
отнюдь не все!) ветхозаветные тексты,
имеющие прообразовательное значение для
подкрепления Истин, содержащихся в
Евангелии.
Не забудем, что первый перевод Ветхого
Завета на церковнославянский язык (т.н.
Геннадиевская Библия 1410 г.) производился
вовсе не для нужд народного чтения
(просвещение Светом Евангелия уже давно
произошло), а в целях сугубо оборонительных,
в связи с угрозой ереси жидовствующих.
Принятое в дальнейшем при издании Библии
расположение текстов, при котором Ветхий
завет как по месту (в связи со странным в
данном случае хронологическим
принципом), так и по большому объему,
занимает первенствующее место; равно как и
ретрансляция (вслед за изданием) содержания
ветхозаветных книг людьми книжными
(священством, монашеством и грамотными
мiянами) всему православному мiру, – всё это
постепенно привело к тому, что эти тексты,
имеющие для христианина – еще раз повторим –
подчиненное, несамостоятельное значение,
стали осознаваться фактически
равновеликими евангельским, и, таким
образом, явочным порядком, а отнюдь не по
праву, приобрели неподобающее им значение.
(Особенно губительно это ложное тождество
при решении историософских проблем.) Но мало
того, это послужило питательной средой сколь
богопротивным, столь же и еретическим
теориям, согласно которым крестившиеся евреи
превращались в «дважды избранных». Вскоре
это трансформировалось уже и в вовсе
отвратительную теорию о евреях-талмудистах,
как о «старших братьях», озвученную
папством.
До издания «полных» Библий потребности в
необходимых для богослужения ветхозаветных
текстах вполне удовлетворялись наличием
большого числа различных специальных книг,
включая паремийники, в том числе и
«толковые» (т.е. тексты с толкованиями), а
также забытой ныне Толковой Палеи,
содержащей святоотеческое объяснение книг
Ветхого завета, исправляющее встречающиеся
там ошибочные утверждения. Издание Библий
(поначалу еще славянских) практически
вытеснило из употребления эту ценнейшую для
формирования православного мiровоззрения
книгу. Неслучайность этой акции подтверждает
тот факт, что Толковую Палею – после
яростных споров – удалось переиздать лишь в
последние годы, да и то оскорбительно
мизерным тиражом.
С течением времени все эти по сути своей
чуждые Православию элементы лишь расширяли
свое присутствие в русской жизни.
Другим важным этапом на этом пути был
русский перевод Библии в XIX веке,
осуществленный не только с принятого
Церковью корпуса «70-ти толковников», но и с
чисто еврейского масоретского извода. Так
духовная выверенность была принесена в
жертву филологической точности. Одним из
поучительных итогов этого непродуманного
деяния был перевод в рамках того же проекта
Псалтири, показавший, что эта весьма чтимая
православными книга – вне славянской
языковой стихии – является текстом не только
мертвым (попытка его анатомировать/перевести
– умертвила его суть), но и оскорбительным
для человека верующего.
Странным было бы, например, запрещать
переводить на русский язык, например, Коран;
но еще более странным выглядело бы подвигать
верующих православных читать его для
знакомства с «одной из авраамических
религий» или для «критического осмысления»
содержащихся там сведений об Иисусе Христе
или Пресвятой Богородице.
Героя повести Льва Делянова тревожит этот
заметный в православном богослужении
ветхозаветный элемент. Он не понимал, «какое
такое прямое отношения к нам имеют все эти
древние евреи?»
Непризнание сродным ветхозаветного мiра
русскими хорошо видно на примере имен,
которыми они нарекали своих детей. Не
привились ни Адам, ни Ева. Имя Адам и
соответственно отчество «Адамович» в России
«маркировало», как правило, человека с
польскими корнями. Не найти было и женщин,
которых бы звали Рахиль, Сарра, Ревекка; не
говорим уже об Эсфири и Юдифи с их
диковинными и отталкивающими нормального
человека историями. Мужские имена Моисей,
Аарон, Самуил, Исаак, Авраам были в ходу. Но
при этом обращают на себя внимание, по
крайней мере, два факта. Первый –
русификация этих имен (весьма характерная
при известном русском «буквоедстве» – крайне
бережном отношении к чужим именам и
географическим названиям): Абрам, Исак,
Давыд, Осип, Самойла и т.д. Бытование этих
имен закреплена в русских фамилиях: Абрамов,
Моисеев, Давыдов, Осипов, Самойлов. Второй
факт – хорошо известная из литературы роль в
наречении имен священника, осуществлявшего
крещение и, нередко, диктовавшего родителям,
как назвать их младенца, исходя из
месяцеслова. Вот почему, когда этот диктат
сначала несколько ослаб, а затем и вовсе
исчез, – все эти имена вообще сошли на нет.
Более того, стали вытесняться и другие
подобные, но несколько более укорененные, –
Яков (Иаков), Осип (Иосиф), Лев.
К этому последнему ряду принадлежит и имя
главного героя повести Делянова, что нашло
отражение в диалоге его с Ларой:
«– Еврей, что ли? – хихикнула.
– Нет. Русский. Просто Лев. Более того, Лев
Львович. Можно Левой звать.
– А-а-а, а я думала…»
Весь этот процесс «очищения» происходил на
фоне важных исторических событий. Русской
Православной (вместо Российской Православной
Греко-Кафолической в синодальный период)
наша Церковь стала именоваться с осени 1943
г. Титул ее предстоятеля – «Патриарх
Московский и всея Руси» (вместо Патриарха
Всероссийского) – даровал ей также лично
«товарищ Сталин», бывший семинарист,
названный Патриархом Алексием (Симанским)
«богодарованным Верховным Вождем нашим».
Другое дело, что нужно было наполнить все
эти понятия-задания соответствующим им
содержанием…
На этом фоне исхода некоторых персонажей
святцев из жизни мiрян, среди монашествующих
в то же самое время шел прямо
противоположный процесс. Имена там
назначают, как известно, настоятели
обителей. Вот почему в любом монастыре
сегодня вы встретите и отца Моисея, и отца
Аарона, и отца Авраама, и матушку Рахиль, и
матушку Сарру, и матушку Эсфирь. В этих
сравнительных именных рядах, как в капле
воды, видны не облеченные пока что еще в
слова различия между устремлениями, как
говорят католики, «церкви учащей» и «церкви
учимой».
Отсюда ясным становятся и все прочие
действия по отношению к считающемуся «самым
непокорным» народу: лишение его, вопреки
мнению подавляющего большинства,
национальности в паспорте, а в обществе и
средствах массовой информации – навязывание
обращения без отчества или, как говорили
когда-то, – «без отечества» (весьма
информативное созвучие, согласитесь).
Вот и пришли мы к семейной развязке в
повести, окончательному крушению семьи
Деляновых, такому нередкому, увы, даже и
среди православных.
Поступок сына и реакция на него жены
заставляет Льва Делянова видеть в конфликте
биологические корни: типичное поведение
самки в присутствии «сильного самца».
Антонина, как и следовало ожидать,
оскорблена таким сравнением:
«– …Он – сильный самец, а не я.
– Какие еще самцы? Вы что, звери?
– Да, – сказал Делянов.
Тоня опустила голову, на глазах у нее
появились слезы.
– Я… Я прошу тебя…»
Предательство завершается расчеловечиванием.
А возразить у начитанной «в божественном»
Антонине оказалось нечем. Что же, выходит,
не то читала, не то рекомендовали
многомудрые ее духовники, озабоченные только
одним «блудом» да «контрацепцией»… Горько!
Но опять-таки, сколько в этом правды…
Главный герой, сам изменивший своим
родителям (делу, которому они служили, или
считали, что служат), получает, в конце
концов, оплеуху от собственного сына,
который, как оказалось, пошел много дальше
отца (Помните эту мантру перестройки:
«Дальше, дальше, дальше…»?): он не только
стал анархистом, но и «председателем Левой
лиги». Всё сильнее разрушительный вал
российской непогоды!
Закон возмездия. Всё возвращается или это
отрицание отрицания?.. Выбор за вами,
господа-товарищи!
Единственное, что еще удерживает Льва
Делянова на плаву и вообще в жизни сей –
младшая дочь его Аленушка:
«Папа и мама. Они… чудесные».
И это-то как раз та любовь, которая по
Апостольскому слову, «не ищет своего… всё
покрывает, всему верит».
В последнее время во всем мiре много говорят
о создании, при помощи науки и новейших
технологий, идеального человека с заданными
качествами, безупречным здоровьем и
интеллектом. Это создание с флэшкой в голове
– по существу бунт против Творца (недаром
так называемого), причем посильнее, чем до
этого акт самоубийства: там разрушалось
созданное Богом, здесь уже для сотворения не
нужен и Сам Бог.
Такого человека-функцию можно будет научить
всему, в том числе заложить в его
сконструированный интеллект даже исполнение
заповедей «не убий», «не укради», «не
прелюбодействуй» и т.д.; нельзя будет его
научить только Любви, не случайно названной
в Новом Завете «наибольшей» христианской
добродетелью («а не имею любви, – то я
ничто» 1 Кор. 13, 2).
Именно поэтому такие люди из пробирки (люди
ли это вообще? ведь у Творения Божия, кроме
тела, должна быть еще и душа) могут быть,
учитывая эту «особенность», легко опознаны,
а сам проект в конце концов неизбежно
завалится вместе с антихристом, ради явления
которого в мiр всё, собственно, и
затевается. Жалко только, что при этом
многие пострадают, кто телесно, а кто
рискует и посмертной участью…
Дальше в том же Апостольском послании
следуют гораздо реже цитируемые слова,
которые многое разъясняют в жизни героев
повести и… нашей с вами: «Когда я был
младенцем, то по-младенчески говорил,
по-младенчески мыслил, по-младенчески
рассуждал; а как стал мужем, то оставил
младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю,
подобно как я познан» (1 Кор. 13, 11-12).
Самую большую вину Делянов чувствует перед
своей Аленушкой: Слезинка ребенка… С
мыслями о ней герой и уходит …в путь всея
Земли. (Или не уходит. Читатель этого так и
не узнает. Всё – сон во сне. «Забыть-река».
Да автор повести человек особенный…)
Кроме темы семейной и исследования
взаимоотношений женщины и мужчины, есть в
повести еще несколько важных, тесно
связанных между собой узлов.
Эти сплотки или сцепки (называйте их как
хотите) также тесно связаны с нашим прошлым,
настоящим и будущим. На них, как на оселке,
в разное время проверялись все мы,
испытывались на излом.
Прежде всего, это противопоставление любви к
Русской Земле вере в Бога.
«Ты в Русь веришь, а не в Бога, – заявляет
Тоня своему супругу. – …При Царе этим себя
и тешили».
Противопоставление это ложное, но издавна
бытует в Христианстве. Показательна
генеалогия этого явления. Еще в 1664 г.
генерал католического Ордена иезуитов
Винцентио Караффу заявил, что «каждая
страна, а не какая-нибудь одна страна, есть
наше отечество». Другой иезуит, Госвин
Никкель, назвал любовь к Отечеству «чумой и
вернейшей смертью христианской любви».
Возникший в Западной Европе еще в Средние
века космополитизм, в то время в виде
«ультрарелигиозного мiровоззрения»,
«возродился вновь на рубеже XVIII и XIX
веков как мiровоззрение
ультраатеистическое».
Вместе с прочими католическими влияниями,
горячо поддерживаемыми их «старшими
братьями», эта патриофобия отчасти поразила
и Православие, особенно в среде юдофилов и
приверженцев папоцезаризма. (За последними
уже давно просматривается тень Великого
Инквизитора.)
Ответ на эту внешнюю агрессию содержится в
известных стихах Сергея Есенина 1914 г.:
Если
крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою.
Не забудем при этом, что это был тот
человек, который незадолго до смерти
завещал:
Чтоб за все
за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
Воспитанная гувернанткой-француженкой,
графиня Наташа Ростова смогла легко сплясать
русскую, ни разу в жизни до этого не имевшая
такого опыта. Антонина же, по происхождению,
конечно же, не аристократка (что и
подчеркивает неоднократно), не в состоянии
разделить веру своего народа, именуя ее с
презрением свысока языческой. И потому
обрекает себя, в конце концов, на
самоуничтожение.
Такая, если попытается коня на скаку
остановить, погибнет под его копытами, а
если, не дай Бог, войдет в горящую избу,
непременно сгорит. Ни барышня, ни
крестьянка… Существо межеумочное, не
прибившееся ни к какому берегу, хотя и
думает, что она-то как раз и прибилась.
Напрямую с Русской связана и другая сквозная
тема повести: Царская.
Лев Делянов не может принять точку зрения
цареборцев, вскормленных с конца еврейского
шильца: «…В конце девяностых, весьма
продвинутый и много пишущий молодой
священник отец Григорий Гершовиц ему
объяснил, что это вот и есть ересь
царебожничества, которая страшнее всех
древних ересей и есть хула на Христа».
Автор не пишет, но и у Антонины, конечно,
были свои учителя. И судя по всему, более
удачливые.
Это заложенное в нее мiровоззрение она
пытается, если и не распространить на своего
супруга, то, по крайней мере, смутить его: «Левушка,
это же все так, внешнее, Христос же не этому
учил»; «Ты у меня все-таки, Левушка,
язычник».
Всё это, конечно, вовсе не чистая строгая
христианская вера. Подобно дистиллированной
воде, медицински она чиста, но при этом
слишком пресна, безжизненна, выхолощена.
Нет, это вовсе не вода живая, текущая в
Жизнь вечную, живящая.
Богомольцы, целующие Царскую тень в Сарове в
1903 г.; солдаты, тянущиеся дотронутся до
краешка Царской шинели в 1915 г. в Галиции –
всё это чуждо Антонине Деляновой, русской по
крови, но чуждой России по духу.
Эту «веру» матери, в отличие от
христианства, которое он категорически
отвергает, всецело принял сын Тихон,
прибившийся к анархистам:
«Совершенно неожиданно за столом Тихон
сказал ему, что ненавидит Царя Николая
Второго.
– За что?
– За Ходынку. За Девятое января. За Ленский
расстрел. За то, что он лгал народу.
Правильно его убили. И ты все лжешь нам. Ты
маму обижаешь.
Антонина не вступилась ни за него, ни за
отца».
«Ненавистен нам царский чертог», – пели
революционеры.
«Царь нам не кумир», – вторили им
офицеры-корниловцы.
«…Ересь царебожничества страшнее всех
древних ересей и есть хула на Христа», –
подтверждает священник Московской Патриархии
в повести (и, к сожалению, не только на ее
страницах, но и в реальной жизни; почитайте
хотя бы журнальчик «Благодатный огонь»,
православный аналог «взрослого» «Огонька»).
Без Царя, конечно, жить можно (мы уже
пожили), так же, как без рук и без ног. Но
последнее, согласитесь, не очень просто.
Спасаются, конечно, и в таком положении,
если удастся побороть подступающее отчаяние.
А это, к сожалению, удел немногих. Но зачем
же, дорогие отцы, примерять – ради ваших
высосанных из пальца идей – бремена
неудобоносимые тем, кто вполне может
обойтись без этого?
И вот еще что: единомысленные последним,
похоже, запамятовали, что сначала скинули
Царя, а затем принялись за Бога и Его
служителей. Да и разве уверенно сегодня
чувствует себя церковная иерархия, когда по
существу всё держится на благоволении к ней
одного единственного человека, сильного, но
все же выборного, т.е. всё равно
временного и уже в силу одного этого не
могущего обезпечить надежное преемство своей
линии…
Есть еще и особый слой повести –
мистический.
Это сны:
Документы «Евразийского Имперского архива».
«Существование Земли… поддерживают
американские войска жертвой детей – от
новорожденных до семи лет – на территории
России… Руководит всем Александр Васильевич
Суворов… в солдатской каске… говорит
по-английски».
Введенный в Москву украинский спецназ,
шпрехающий на мове; китайцы; входящая в
Кремль «Коллегия Королей».
Текст повести прошивают цепочки смыслов,
хорошо понятных тем, кто жил в одно время с
автором и уже потому неизбежно читал и
смотрел Карпеца:
Волга (бегущая влага) – Дон – Дно (станция,
где, вопреки современным безответственным
мифотворцам, всё-таки имело место отречение
Государя).
Вода мертвая и Вода живая. «Забыть-река, или
река Смородина… греки называли ее Летой…
Была и вторая река Мнемозина… Рось, Русица,
Руза… Руда… Кто пил из нее, всё вспоминал.
Что было, что есть и чего нет… Красная
река».
Даже в именах второстепенных героев и
промелькнувших разок названиях местностей
(при всей их внешней простоте) заключены
глубокие смыслы: следователь прокуратуры
Кабальцев, майор спецслужб Выжлецов, Кабаний
ручей.
Порой явления лишь обозначены (коронованные
змеи) или вообще даже не названы (змеедевы).
Эти недоговоры характерны для Карпеца
вообще.
Обаяние и притягательность Владимiра
Игоревича лежит во многом именно в области
этой непроговоренности им важных тем,
которые он так или иначе затрагивает.
Криптограммы его даже и для тех, кто, как
говорится, в теме, остаются всё же не до
конца понятыми. Но так и должно быть.
Предполагаю, что даже если спросить автора,
а как думает он сам, сходу он не ответит.
Попробуй схвати – в руке окажется лишь
воздух …правда пронизанный едва уловимой
золотой пылью.
Карпец всегда был «вещью себе». Вопросы по
существу он, как правило, останавливал либо
встречным речевым потоком, при котором
нечего было и думать о продолжении беседы,
либо такими «ответами», которые еще больше
запутывали дело. В такие минуты он неуязвим
либо как черепаха, ушедшая в свой панцирь,
как дикобраз, выпустивший свои иглы, или как
косой, сбивающий своими петлями охотника со
следа.
Словом, «дикобразу дикобразово».
На этой зыбкой почве более реальным выглядит
пресловутый «чепок», продажа хрусталя
пассажирам, «массаж» в бане и описанное со
знанием дела распитие самогона под грибки
Лёхи. Но где найти силы выдержать, не
отчаяться, не уронив себя, если допустить,
что это последнее и есть единственная
реальность?..
Вот тут-то и приходит на помощь спасительная
«легенда об Иване-Царевиче» – один из
коренных архетипов Русского сознания – вещь
посильнее самой предельной реальности.
В свое время открыл ее наш великий гений
Ф.М. Достоевский, описав в своем романе
«Бесы»: «Мы пустим легенды… Ивана-Царевича…
Мы скажем, что он “скрывается”… Знаете ли
вы, что значит это словцо: “Он скрывается”?
Но он явится, явится… Он есть, но никто не
видал его. О, какую легенду можно пустить!
…По ней-то и плачут… А тут сила, да еще
какая, неслыханная!.. Всё подымется!»
Не знаю как у читателей, а у меня со
времени первого чтения в 1974-м мороз по
коже.
Вложил Федор Михайлович эту легенду в
уста бесов русской революции, как
предложенный ими инструмент разрушения
России. Но одновременно это есть и способ
выживания и даже оживления народа нашего,
который во времена неимоверно тяжелой,
нечеловеческой по своим мукам реальности,
когда, кажется, не выжить, дает веру,
надежду и силы всё это вынести, преодолеть.
За то, наверное, Ф.М. Достоевского и
ненавидят такие известные представители
«малого народа», как Анатолий Чубайс и
телеведущий Владимiр Соловьев.
«Рыжий Толик», по его собственным словам,
«не чувствует ничего, кроме физической
ненависти» к этому Великому Русскому Гению.
По его признанию, он даже готов был «порвать
его в куски».
А вот мнение открыто позиционирующего себя
каббалистом телешоумена: «Достоевский пустил
бесов в русскую душу! …Вся чертовщина
русской души вылезла оттуда. …Это был момент
придуманной (дьявол всегда пытается, чтобы
его считали выдумкой. – С.Ф.) идеологии
колоссального расслоения. Когда не слышали
друг друга социальные слои». (Диалог с
Петрушой Верховенским? – насмешил ты нас,
однако, Вовчик.)
Для В.И. Карпеца это сквозная,
переливающаяся еще из ранних стихов его
(поэма «Голованов» и др.) и историософских
штудий, а оттуда в прозу, тема. Кстати, не
было бы этого последнего слоя,
пронизывающего золотой змейкой всю ткань
повести «Забыть-река», вряд ли я вообще стал
бы писать о ней. Только эта последняя тема
затянула меня, завертев затем в круговороте
других, давно отболевших и отоснившихся
осколков прошлого.
На сей раз явление это обрело у В.И. Карпеца
образ местного лесничего Михаила Ильича, «со
странной и редкой фамилией Меровеев (ее
писали и Меровеев, и Мiровеев и Муравеев,
отчего часто путали с Муравьевым и даже
Мироновым )». Некоторые (впрочем, весьма
скупые подробности) позволяют искушенному
читателю догадываться, кто он:
«Почему Меровеев здесь оказался, и откуда он
родом, тоже никто не знал». Итак, для людей
– он без роду, без племени.
Далее этот загадочный нестареющий
лесник Мiровеев был то ли убит, то ли
принесен в жертву. Либо сам, либо при помощи
Льва Делянова. Но в любом случае, не помимо
собственной воли.
Следователи предъявляют Делянову отрывок из
его опубликованной статьи и обнаруженную
запись лесника.
«Царь-Мученик, – говорится в отрывке из
статьи, – был искупительной жертвой к Богу
за весь свой род и весь свой народ».
«Приими, Господи, жертву сию за род Твой и
мой и народ Твой и мой», – последняя запись
Мiровеева.
Но это повесть, и хотя, что касается
исторических реалий, она весьма точна, она
всё же – произведение художественное. И
потому, для полноты впечатления, приведем
свидетельства первоисточников, не подлежащие
уже никакому сомнению.
Во-первых, это подлинные точные слова
Императора Николая II, Царя-Мученика: «Быть
может, нужна искупительная жертва для
спасения России: Я буду этой жертвой – да
свершится воля Божия!»
Во-вторых, тексты богослужебные.
Молитва из Литургии апостола Марка: «Господи
Боже наш, предложивый Себя Самого, как
непорочного агнца».
Песнопение Великой Субботы: «Царь бо
царствующих и Господь господствующих
приходит заклатися и датися в снедь верным».
Здесь, в преддверии Великой Тайны Божией,
пред Лицем Которой все слова безсильны и
ничтожны, мы и умолкаем.
Сергей ФОМИН
Декабрь 2013 г.