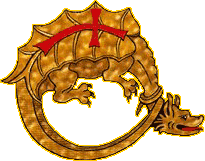 |
 |
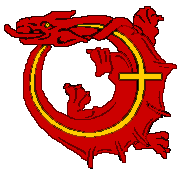 |
|
| ОРДЕН ПОБЕЖДЕННОГО ДРАКОНА ВО ИМЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА |
19 ноября 2010 года. Пятница, 17.00. Очень интересны размышления русских писателей на тему того, как "новая Хазария" или "малый народ" захватили сферу литературы и искусства в "оккупированной" ими стране. Владимир Солоухин"Мой последний смертельный прыжок"С оккупацией России "экспансивными молодыми людьми", – считает Владимир Солоухин, – начала создаваться нулевая отметка, начало шкалы, по которой можно было отмерять новых поэтов и художников. Родоначальниками советской поэзии, – пишет он, – стали считать, скажем, Казина, Жарова и Безыменского. Если бы эти поэты шли сразу вслед за Гумилевым, Блоком, Цветаевой и Ахматовой, то, во-первых, никто бы их не заметил, а во-вторых, если бы сказали, что Казин, Жаров и Безыменский и есть уровень современной поэзии, то все увидели бы, что русская поэзия гибнет, переживает чудовищный спад. Ибо поставить Казина, Жарова и Безыменского рядом с Блоком и Гумилевым все равно, что поставить спичечный коробок рядом с десятиэтажным домом. Если же спичечный коробок поставить на пустой стол, то он будет все же предметом, стоящим на столе, будет возвышаться, организовывать, так сказать, ландшафт стола, отбрасывать тень и вообще смотреться. Когда же люди привыкнут, что Казин, Жаров и Безыменский есть нормальный уровень современной поэзии, когда после этого появятся люди с проблесками одаренности, вроде Сельвинского, то этих поэтов легко будет провозгласить крупнейшими, если не гениями. Действительно, разве не гений Сельвинский по сравнению с Казиным, Жаровым и Безыменским? Но по сравнению с Блоком? Только забыв о том, что были "Скифы" и "Незнакомка", "Девушка пела в церковном хоре", весь цикл "Родина", "Сон", то есть только забыв о стихах Блока, можно всерьез восхищаться "Гренадой" или "Рабфаковкой", да и всей поэзией Светлова. Хотя, конечно, если забыть о Блоке, с десяток стихотворений Светлова производят впечатление стихов. Однажды был случайно проведен выразительный эксперимент. Сидели писатели на террасе Дома творчества в Малеевке, говорили о стихах. Немного спорили, стали читать Светлова, Гудзенко, Межирова, Алигер, Смелякова, Асеева, Уткина. Звучали профессиональные, крепко сколоченные строфы, исторгая у слушателей разные степени одобрения и восторга. Причем, как это бывает, когда стихи знают и могут читать все собеседники, шла своеобразная эстафета. Едва затихала строфа одного поэта, прочитанная одним чтецом, другой подхватывал, из того ли, из другого ли поэта, и поэзия продолжала звучать. Надо полагать, что читались лучшие стихи и лучшие строфы. Они улеглись у костра своего, Бессильно раскинув тела, И пуля, пройдя сквозь висок одного, В затылок другому вошла. * * * В двадцать пять с небольшим свечей Электрическая лампадка. Ты склонилась сестры родней Над исписанною тетрадкой. * * * Ночь надвинулась на забой, Перемешиваясь с водой. Ветер мокрый и черный весь Погружается в эту смесь. * * * Но "Яблочко"-песню Играл эскадрон Смычками страданий На скрипках времен. * * * Я не знаю, где граница Между севером и югом, Я не знаю, где граница Меж товарищем и другом. * * * Ах, шоферня, пути перепутаны Где позиция? Где санбат? К ней пристроились на попутную Из разведки десять ребят. * * * Сосчитали штандарты побитых держав. Тыщи тысяч плотин возвели на реках. Целину поднимали, штурвалы зажав В заскорузлых, тяжелых, рабочих руках. * * * Можно написать: "Тропа вела Не то на небеса, не то на Елань". Мы ж хотим без выдумок, Что нам жизнь дала, Рассказать о видимых Людях и делах. * * * Катя Соломатина кончала Первый медицинский институт... . На этом месте чтец замолчал на минуту, забыв, наверное, очередную строку, а я воспользовался паузой и потихонечку начал читать: Похоронят, зароют глубоко, Бедный холмик травой зарастет, И услышим – далеко, высоко, На земле где-то дождик идет. Ни о чем уж мы больше не спросим, Пробудясь от ленивого сна. Знаем, если негромко, – там осень, Если бурно – там, значит, весна. С чем можно было сравнить впечатление? Как если бы среди погремушек запела скрипка. Как если бы среди гомона и дурно, хором исполнявшейся за столом песни прозвучал сильный голос певицы – драматическое сопрано. Надо еще иметь в виду, что они читали, выбирая лучшее из разных поэтов, я же прочитал самый рядовой, самый незаметный, проходной стишок Блока. Но вот все, что читалось, чудесным образом померкло, сникло и уничтожилось, словно электрическая лампочка, забытая с вечера, когда в окно уже ударило настоящее солнце. Мишура, латунная фольга по сравнению с полноценным, глубоко мерцающим золотом. После этих строк эстафета чтения, естественно, прекратилась, и они стали просить меня, чтобы я прочитают еще. Я прочитал теперь уже лучшие блоковские стихи, и мы разошлись тихие, очарованные ими, не вспоминая больше ни Светлова, ни Асеева, ни Уткина, ни Гудзенко... Итак, один путь был прост и понятен. Отрезать, отделить все, что было, расчистить стол, превратить русскую поэзию в белый лист бумаги и от нулевой отметки начать сначала. Новая шкала, новые критерии, новый масштаб, вот в чем дело. Все дело в масштабе. Но все же из нахлынувших "золотоискателей" не каждый умел писать даже так, как Безыменский и Жаров. А хотелось занять свое место под небом и врасти в искусство, в идеологические сферы, в интеллигенцию, желательно творческую. Во-первых, больше платят. Во-вторых, почетнее. В-третьих, меньше труда. Богораду, желающему стать журналистом, позволили в течение нескольких месяцев писать сводку погоды. Но что с такими же способностями делать в поэзии или живописи? Тогда эти молодые, полные сил, энергии и, прямо скажем, наглости периферийцы, наводнившие Москву, начали производить так называемое новое, левое, сверхновое и сверхлевое искусство. Крученых пишет: "Дыр бул щир убещур..." и заявляет, что в этой его строке больше народного, национального, чем во всем Пушкине. "Больше, больше! – подхватывает хор. – Долой Пушкина, да здравствует "дыр бул щир убещур"!" В живописи рисуют на холсте квадраты, треугольники, и это определяется новаторским путем изобразительного искусства. Долой Нестерова, долой Врубеля, долой Сурикова и Рериха, да здравствуют Малевичи и Кандинские! В архитектуре вместо красивых зданий строятся кубики, в лучшем случае – нагромождение пересекающихся кубиков, и это объявляется завтрашним днем в архитектуре. Вернемся к декларации Малевича, на этот раз о поэзии. "Самыми высшими считаю моменты служения духа и поэта, говор без слов, когда через рот бегут безумные слова, безумные, ни умом, ни разумом не постигаемы. Здесь ни мастерство, ни художество не может быть, ибо тяжело земельно загромождено другими ощущениями и целями. Улэ Эле Ли Кон Си Ан Онон Кори Ри Коасамби Моена Леж Сабно Одадт Тулож Коалиби Блесторе Тиво Ореан Алиж. Вот в чем исчерпал свое высокое действо поэт, и эти слова нельзя набрать и никто не сможет подражать ему". (Там же.) Но ведь если золотую поэтическую строку под стать лучшим образцам поэзии сумеет написать только талантливый человек, только поэт, то "оуэ", "ауа", согласитесь, может написать каждый. Если создать молитвенный нестеровский пейзаж или передать живописью вечерний звон над плесом могут только гениальные художники, то нарисовать черный квадрат на белом фоне, или два пересекающихся квадрата, или два разноцветных квадрата, согласитесь, доступно каждому. Нотр Дам или храм Христа Спасителя под силу только могучему таланту, а новые здания в виде простого прямоугольника доступны и архитектурному Богораду. А теперь представьте себе сборище людей, занимающихся псевдоискусством и заботящихся о том, чтобы их искусство утвердилось. Иначе ведь все лопнет, как мыльный пузырь. Могут ли они допустить, чтобы рядом с ними зазвучала настоящая поэзия, писались настоящие картины, строились настоящие красивые здания? Куда же тогда деваться им? Так вот, представьте себе сборище этих людей, их смех и ненависть, их улюлюканье, если бы вдруг встал бы там, среди сброда, золотоголовый человек и начал читать громким и звонким голосом: Несказанное, синее, нежное, Тих мой край после бурь, после гроз, И душа моя – поле безбрежное, Дышит запахом меда и роз.
Я утих. Годы сделали дело, Но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтелая Прокатилась во всю страну.
Напылили кругом. Накопытили. И пропали под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители Даже слышно, как падает лист... Таким сборищем, таким Клондайком от искусства и была Москва двадцатых годов. Поддерживалось во всех этих "Стойлах Пегасов", ЛЕФах, "Ничевоках", во всех этих поэтических тавернах либо то, что открывает широкие возможности для несусветной халтуры, либо посредственное, вроде Казина и Безыменского с Жаровым, конкуренции которых можно было не опасаться. Теперь представьте, как могли себя чувствовать среди этого сброда истинно талантливые люди вроде Есенина. Пути борьбы с ними могли быть разными. Булгаков получил триста восемьдесят ругательных, оплевывающих статей в разных газетах и журналах. Маяковский, приспособивший свой талант к обстановке и вообще приспособившийся к среде, даже вросши в нее через Бриков, призывает сажать в зрительный зал МХАТа своих людей в количестве человек двухсот, которые нарочно освистывали бы спектакли по пьесам Булгакова. Из Есенина путем сплетен и анекдотов создали образ хулигана и алкоголика. Судьба Есенина, конечно, оказалась вдвойне и втройне трагичной. Взглянем на это чуть-чуть повнимательней. Что такое был Есенин, когда он впервые появился на поэтическом горизонте и когда его, как неожиданно засверкавший самородок, представляли царской семье и самому государю? Это был светлый отрок с певучими светлыми стихами. Его образовала рязанская природа, русский деревенский быт и во многой степени странствия вместе с любящей его бабкой по российским монастырям. Недаром нельзя почти найти стихотворения у Есенина, в котором не встретилось бы хоть одно слово из религиозного, церковного, монастырского обихода: "И березы стоят как большие свечки..." "И под плач панихид, под кадильный канон..." "Церквей у прясел рыжие стога..." "У церквей перед притворами древними Поклонялись Пречистому Спасу..." "Пели стих о сладчайшем Исусе..." "Не заутренние звоны, а венчальный переклик..." "Матушка в Купальницу по лесу ходила..." "Ходит милостник Никола Мимо сел и деревень..." "Он идет, поет негромко иорданские псалмы..." "Колокол дремавший разбудил поля..." "Собирал святой Егорий белых волков..." "На краю деревни старая избушка, Там перед иконой молится старушка..." Не надо думать, что эта, так сказать, религиозная терминология свойственна только ранним, юношеским стихам Есенина. Открываем том второй. Первая же строка: "Господи, я верую, Но введи в свой рай..." "Он придет бродягой подзаборным, Нерушимый Спас..."
"О Матерь Божия, Пади звездой..." "И пас со мной Исайя Моих златых коров..."
"Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил..." "Заря молитвенником красным Пророчит благостную песнь..." . И это не говоря уже о целых поэмах и стихах: "Иония" "Преображение", "Пантократор", "Сорокоуст", "Иорданская голубица", "Сельский часослов". Берем, наконец, самые далекие, казалось бы, от всего этого стихи его наиболее зрелого периода, тех самых двадцатых годов. "Душа грустит о небесах..." "За прощальной стою обедней Кадящих листвой берез..." "Словно хочет кого придушить Руками крестов погост..." "Словно мельник, несет колокольня Медные мешки колоколов..." "Твой иконный и строгий лик По часовням висел в Рязанях..." "И молиться не учи меня, не надо..." "На церкви комиссар снял крест, Теперь и богу негде помолиться..." "Стыдно мне, что я в бога не верил, Горько мне, что не верю теперь..." "Чтоб за все за грехи мои тяжкие, За неверие в благодать Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать". Как и всюду в этих записках, как на каждой их странице, оставим читателю возможность самому искать и находить примеры, факты и документы, подтверждающие правильность нашей мысли. Берите любой томик Есенина, всюду вы будете находить слова "панихида, свеча, паперть, молитва, икона, церковь, часовня, благовест, крест. Божья Матерь...". И вот этот-то, не побоюсь повторить еще раз, отрок светлый, пришедший от росы, от цветов, от колоколен, выглядывающих из ржаных полей, от добра, оказался вдруг (опять же повторяю) в Клондайке от искусства, в Москве двадцатых годов, из которой Давид Бурлюк шлет телеграммы своим друзьям в Одессу: "Приезжайте, можно сделаться знаменитыми". Белый голубь среди воронья. Пытался приспособиться. Несколько человек объявили себя имажинистами – в духе времени. Видно, вне группы тогда совсем нельзя было существовать. "Ничевоки", "Лефовцы", "Собачий ящик", "Конструктивисты". Придумали и эти себе отличительную мету – самодовлеющий образ. Но никакого имажинизма, конечно, не было. Был только поэт Сергей Есенин, пытавшийся инстинктивно приспособиться к духу времени. И еще одна форма его реакции на окружающую обстановку. Белый голубь нарочно начинает пачкать и чернить свое белоснежное оперение, а то и выщипывать его, чтобы стать похожим на всех. Он чувствовал, что тут не просто пьяные поэтические таверны, развивающие дух стяжательства, конкуренции, не просто вакханалия дорвавшихся до жирного пирога бродяг, но что тут за всем этим организованная и злая сила, против которой даже не знаешь, как стоять, ибо ее вроде нет, но она есть. Ее вроде не увидишь, не почувствуешь, не материализуешь в единый образ, но она всюду, в каждой газетной строке, в каждой реплике, в каждом злорадном смехе. Тогда так. Вы такие, а мы тоже такие! А вы пить, как я, умеете? И на чем хлеб родится, знаете? Вы жрете его, а мы ведь его того-с, навозом-с. Вас Троцкий с Зиновьевым поддерживают, а меня московские урки любят! Ты меня в газетной заметке уязвишь, а я тебе в морду дам! Разве не пьянствовал Михаил Светлов? Ежедневно, до самой больницы пил Ярослав Смеляков. Пила Ольга Берггольц, пил Василий Федоров, вмертвую пил Панферов... Я вам назову сейчас десятки своих собратьев-писателей, которые пьют (не исключая и себя, грешного, разумеется), но ведь нет же, не было славы, что Светлов – алкоголик, хотя напивался ежедневно. А про Есенина подхватили: алкоголик, да еще хулиган. Но все это преувеличение и вздор. Это ведь делается очень и очень просто. Свалился в конце вечера Светлов в ЦДЛ, уснул в кресле в фойе, а ЦДЛ пора закрывать. Сейчас Роза Яковлевна или Эстезия Петровна звонят и вызывают такси. Бережно усаживают Светлова, говорят водителю адрес, либо вызывают по телефону жену, сына, а то и сами проводят домой. Шито-крыто. Уснул в таком же положении Вася Федоров, а ЦДЛ пора закрывать. Куда звонят Роза Яковлевна и Эстезия Петровна? Может быть, жене Васи Федорова Ларе? О, нет. Они звонят в вытрезвитель. А в вытрезвителе Вася Федоров очнется, будет противодействовать, выкрикивать разные слова, ему там наподдадут, а он даст сдачи. И вот Светлов – скромный поэт, певец гражданской войны, а Вася Федоров – пьяница и буян. Тогда же не было ЦДЛ и вытрезвителей. Но разве, идучи подвыпившей компанией по Тверскому бульвару, долго спровоцировать уличный скандал, после которого Есенин проснулся бы в участке? Между прочим, есть знаменательная проговорка в стихах Маяковского, там, где он впервые увидел Терек: ...Шумит, как Есенин в участке, Как будто Терек соорганизовал Проездом в Боржом Луначарский. Словечко "соорганизовал", мне кажется, стоит очень на месте. Есть свидетельство, что Есенин каждый вечер на ночь (каждый вечер!) мыл голову, любя свои волосы и ухаживая за ними. Скажите, способен ли спивающийся алкоголик на подобные действия? Но главный аргумент – количество написанного как раз в те годы, в которые – считается – Есенин спивался и пропадал. В эти годы Есениным написано фактически все, что составляет Есенина как поэта. Он писал ежегодно столько, сколько советским поэтам не успеть за всю жизнь, не то что с похмелья, но в благоустроенных домах творчества, питаясь творогом и кефиром. Теперь о том, что Есенин был хулиганом. Пусть поговорят сначала его стихи. Ветры, ветры, о снежные ветры, Заметите мою прошлую жизнь. Я хочу быть отроком светлым Иль цветком с луговой межи.
Русь моя, деревянная Русь! Я один твой певец и глашатай. Звериных стихов моих грусть Я кормил резедой и мятой.
Я все такой же, сердцем я все такой же, Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.
Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть. Вот так же отцветем и мы И отшумим, как гости сада... Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверье, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове.
Но и все же, новью той теснимый, Я могу прочувственно пропеть: Дайте мне на родине любимой, Все любя, спокойно умереть! Выписывать можно без конца. Но можно ли предположить, что все эти стихи, полные грусти, нежности, света и добра, написаны хулиганом? Уж до того он был, видимо, доведен, что хоть умереть дайте спокойно, черт вас всех побери! Нет, не дали спокойно и умереть, довели до веревки, до петли! Впрочем, обстоятельства смерти Есенина не ясны. Как известно, петли не было, веревка была просто замотана вокруг шеи. И была рана на виске. И сестра свидетельствует, что уезжал он в Ленинград в хорошем рабочем настроении. Могут сказать, что мы сгущаем краски, рисуя обстановку в искусстве в двадцатых годах. Мало ли что Авербах держал в своих руках все литературоведение, Малевич и Штеренберг командовали в живописи, а Мейерхольд разрушал русский театр, глумясь над Островским и Гоголем. Это ведь все субъективно, это ведь все говорится из любви к России, из приверженности к ее прошлому величию, предвзято и тенденциозно. Но можно в этом случае позвать в свидетели не кого другого, как Маяковского. Уж на что он там был в своей стихии, сам участвовал в создании нарочитого хаоса, в котором могли бы плавать и приспосабливаться будущие интеллигенты. Но и его допекло, и его наконец прорвало: Явившись в ЦКК грядущих светлых лет, Над бандой поэтических рвачей и выжиг Я подниму, как большевистский партбилет, Все сто томов моих партийных книжек. Слово произнесено. Банда. Банда поэтических рвачей и выжиг. Вот обстановка тех лет в литературе, в литературоведении, в театре, живописи, во всех видах искусства. При всем том важно было не забыть, что вся эта сумятица должна быть направлена на денационализацию, на разрушение народных ценностей, на выхолащивание патриотизма из русских сердец. Троцкий в одной из своих вдохновенных речей воскликнул: "Будь проклят патриотизм!" О том, как выразился Ося Брик о стихах Кудрейко, напомним: "Этим стихам до полностью белогвардейских не хватает одного только слова – Родина!" Литератор Н.И. Жаркова свидетельствует, что у нее из какого-то очередного рассказа выбросили слово "Родина" даже применительно к Америке: "Как, вы хотите, чтобы мы учили наших детей слову "Родина"?" Это услышано от нее, как говорится, "из первых рук". Кроме того, нависала ликвидация крестьянства и превращение его в огромнейшую трудовую армию. Мог ли такой поэт, как Есенин, вписаться в эту грядущую обстановку, в эту, короче говоря, систему? Чуть позже Маяковский и тот понял, что не вписывается. Все яркое должно было уступить место среднему. Только напрасно думать, заметим вроде бы в скобках, что Есенин ушел как поэт советский. Есенин был последний чисто русский поэт, русский поэт в точном смысле этого слова. Потом уж пошли – советские. Прочитаем, чтобы уж закончить о Есенине, его стихотворение, относящееся к 1922 году, которое не оставляет никаких сомнений о позициях Есенина в той буче, в которой, прямо скажем, нелегко было разобраться, и многое путалось, и были все эти "Песни о 26-ти", но сердце в конце концов не выдерживало, кричало: Мир таинственный, мир мой древний, Ты, как ветер, затих и присел. Вот сдавили за шею деревню Каменные руки шоссе.
Так испуганно в снежную выбель Заметалась звенящая жуть. Здравствуй, ты, моя черная гибель, Я навстречу к тебе выхожу!
Город, город! Ты в схватке жестокой Окрестил нас как падаль и мразь. Стынет поле в тоске волоокой, Телеграфными столбами давясь.
Жилист мускул у дьявольской выи, И легка ей чугунная гать. Ну, да что же? Ведь нам не впервые И расшатываться и пропадать.
Пусть для сердца тягуче колка Эта песня звериных трав!.. ...Так охотники травят волка, Зажимая в тиски облав.
Зверь припал... и из пасмурных недр Кто-то спустит сейчас курки... Вдруг прыжок... и двуногого недруга Раздирают ни части клыки.
О, привет тебе, зверь мой любимый! Ты не даром даешься ножу. Как и ты – я, отвсюду гонимый, Средь железных врагов прохожу.
Как и ты – я всегда наготове, И хоть слышу победный рожок, Но отпробует вражеской крови Мой последний смертельный прыжок.
И пускай я на рыхлую выбель Упаду и зароюсь в снегу... Все же песню отмщенья за гибель Пропоют мне на том берегу. + + +
|
|
| Орден Дракона "ДРАКУЛА" |
| При полном или частичном воспроизведении материалов узла обязательна ссылка на Орден Дракона "ДРАКУЛА" |